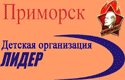15:19 Рассказ из русской жизни | |
В прохладном
утреннем воздухе ранней весны звонко раздавался над селом Тихим редкий
благовест небольшого колокола. Солнце уже выплыло на синеватый небосклон
и начинало побеждать теплыми лучами свежесть утренника. На улице стояла
великопостная тишина. От села к церкви плелись старушки; на паперти
столпилась кучка ребяток.
С высокого узорчатого крыльца нового большого трактира спустился дюжий,
исправно одетый мужчина лет сорока пяти; сановито пошел он по
направлению к церкви, с важностью откланиваясь на почтительные
приветствия встречавшихся крестьян.
| |
|
| |
Суббота, 28.02.2026, 05:30
Приветствую Вас Гость
Приветствую Вас Гость
Приморск - ты Родина моя!
Форма входа
Категории раздела
|
Страница настоятеля Андрея Самаркина [202]
Духовные новости
|
| Святые отцы [37] |
| Иконы [33] |
|
Православные рассказы [75]
рассказы о религии
|
| Новости культуры [39] |
| Новости политики [73] |
| Новости кино [89] |
| Новинки кино [27] |
| Лидеры проката [3] |
| Российские актёры [1] |
| Российские актрисы [0] |
| Иностранные актёры [6] |
| Иностранные актрисы [3] |
|
Рыбацкие истории и рассказы [15]
Рассказы бывалых рабаков, рыбацкие байки
|
|
Статьи о рыбалке [113]
полезные советы рыбакам
|
| В помощь садоводу [10] |
| Ягоды и кустарники [28] |
| Дачнику-огороднику [11] |
| Цветоводство [10] |
| Комнатное цветоводство [1] |
| Сезонные работы в саду и огороде [3] |
| Эротические рассказы [40] |
| Разное [717] |
Новый альбом
[Весна]
Календарь
Фотогалерея
Комментарии к фото
That's a clever answer to a tricky quseiton
You couldn't pay me to ingore these posts!
Hey, that's porewful. Thanks for the news.
Hey, subtle must be your mddlie name. Great post!
The asnwer of an expert. Good to hear from you.
Новости
| [10.04.2013] | [Что нового в Приморске?] |
| График сбора и вывоза бытовых отходов в апреле 2013 г. на территории Приморского сельского поселения (0) | |
| [10.04.2013] | [Новости ТОС "Приморское".] |
| Спортивный праздник «Со спортом дружить – здоровым быть!» (0) | |
| [10.04.2013] | [Что нового в Приморске?] |
| День здоровья в Приморском ДДТ (0) | |
| [10.04.2013] | [Что нового в Приморске?] |
| Театрализованное представление «Будем с книгами дружить!» (0) | |
| [10.04.2013] | [Что нового в Приморске?] |
| Поздравляем Бурякову Анну Павловну с юбилеем! (0) | |
Комментарии гостей
пасиб за новость!
С новым годом!!!!
Приветствую вас. Скажите взять, Планшетный компьютер, или нетбук, или ноутбук? Мне надо для интернета. С одной стороны планшет компактнее, а с другой ноутбук мощнее
Что лучше. Если можно, с конкретными примерами.
Что лучше. Если можно, с конкретными примерами.
Однако интересную статью нарыл. Давайте делиться, кто из вас будет новой вакциной вакцинироваться, кто традиционной, а кто просто мыть нос (и рот, и уши) мылом 
Я же думаю засилье коммерческих "пугателей народа. Это еще один тренд тупоголовия с разных сторон - с первой нехорошие люди ложью пытаются заработать, со второй обычные не хотят повышать собственный уровень образованности, и сильно доверяют всему что показывают по телевизору.

Я же думаю засилье коммерческих "пугателей народа. Это еще один тренд тупоголовия с разных сторон - с первой нехорошие люди ложью пытаются заработать, со второй обычные не хотят повышать собственный уровень образованности, и сильно доверяют всему что показывают по телевизору.
Привет всемhttp://rfrussia.org/ - . Только что стала участницей вашего форума, возьмете меня в вашу компанию?=))
А теперь "по делу" )))
нравится ли вам сериал Кости? По-моему крутой сериал, но по-настоящему шикарным он стал после беременности Темперанс.
Как он вам?
А теперь "по делу" )))
нравится ли вам сериал Кости? По-моему крутой сериал, но по-настоящему шикарным он стал после беременности Темперанс.
Как он вам?
Архив записей
Наш опрос
Друзья сайта
Главная » 2010 Сентябрь 12 » Рассказ из русской жизни