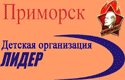«Кто сказал, что смысл нашего существования в достижении счастья?»
Чем Церковь способна заинтересовать мужчин? Заметив, что Православная Церковь — единственная конфессия, которая привлекает и удерживает в себе мужчин не меньше, чем женщин, американская писатель и публицист Фредерика Мэтьюз-Грин как-то провела опрос среди ста православных мужчин. Испытания — вот слово, которое звучало в ответах чаще всего. Не секрет, что настоящему мужчине для полноты бытия «целого мира мало». Ни любимое дело, ни достаток, ни даже полноценное семейное счастье не способно исчерпать заложенной в сильный пол жажды высшего смысла, преодоления собственной конечности. И нет ему покоя, пока двери в бессмертие остаются закрытыми...
Обычно героем «Отрока» становится человек, интересный своим христианским опытом, уникальными знаниями, однако сегодня мы сделаем исключение. Мы предлагаем читателю фрагмент интервью, данного далёким от православия актёром Хью Лори журналу Psychology. Не лишним, нам кажется, будет узнать, как живёт человек, у которого есть всё, кроме Христа. Человек, сумевший честно рассказать о своей «экзистенциальной ломке», о жажде испытаний, о тоске по подлинному смыслу бытия.

Хью Лори не похож на баловня фортуны, на успешного профи, не похож даже на просто актёра — на нём нет того отпечатка, который накладывает профессия, требующая самодемонстрации. Хью Лори похож на человека, которому 51 год, который вырастил троих детей, всю жизнь работал и много думал. У которого есть привычка к размышлению, хотя он и скрывает это: как и большинство мужчин нашего времени, он хотел бы казаться человеком действия, а не мысли.
Ваша жизнь резко изменилась, когда вам было 45 лет. Уехать из родной страны, жить вдали от родных — иметь дело с такими материями, как неоспоримый успех и всемирная слава...
Слушайте, в этой моей славе есть что-то абсурдистское, поэтому я и не доверяю ей... Я вообще не сразу понял, что доктор Хаус — главный герой. Я долго читал сценарий с чувством, что главным должен быть доктор Уилсон, онколог. Человек положительный, приветливый, внимательный к пациентам, добрый и отзывчивый. Для меня было просто шоком, когда «Хаус» стал рейтинговым лидером едва не по всему миру. У меня было чувство, что я провёл шесть лет в коме, неожиданно очнулся и теперь мне хотелось поинтересоваться: «Елизавета по-прежнему у нас на престоле? У нас в Британии по-прежнему левостороннее движение? У нас всё ещё фунты или уже евро?» Собственно, я до сих пор в каком-то смысле пребываю в этом состоянии. Хаус слишком необычен — и как сериал, и как человек. Слишком безыллюзорен для телесериала и слишком негероичен и дискомфортен для героя. Он не может быть поп-звездой. А стал. Я контужен этим фактом — моя картина мира, основанная на подозрительности, подверглась деформации.
Подозрительности?
Знаете, я принадлежу к такому типу людей, для которых стакан всегда наполовину пуст. Я, правда, не особенно делюсь этим мироощущением — сам нытья не люблю и стараюсь свой стакан как-то наполнять, но чем лучше идут дела, тем более подозрительным мне кажется ход событий. Моё кредо: если всё хорошо, то лишь вопрос времени, когда ухудшится. «Невыносимая лёгкость бытия» — замечательное название, гениальная формулировка и абсолютно про меня. Лёгкость бытия — для меня нечто невыносимое. Меня вечно мучает вопрос: достойно ли происходящее глубоких переживаний или надо относиться решительно ко всему легче? Или, наоборот, для полноты ощущения бытия надо всё переживать всерьёз? В отношении реальности у меня слишком много открытых вопросов, и тенденция такова, что их количество не уменьшается. Нам, британцам, знаете ли, свойственна некоторая сентиментальность. Именно эта чувствительность и сделала многих из нас циниками. Самозащита, защита от собственных чувств, от болезненных воздействий на нашу тонкую вообще-то кожу... Я балансирую над пустотой — депрессией, пытаясь сохранить чувственность и не впасть в цинизм. И при этом отдаю себе отчёт в том, что вообще-то депрессивность моя надуманна: я не делаю ничего такого, что могло бы действовать подавляюще. Моя жизнь легка — вы заметили, что я не шахтёр? Да я даже и не актёр — я никогда не учился этой профессии и долго занимался ею на «капустническом» уровне... Может быть, с этим связана моя депрессивность — я не готов к побочным эффектам профессии. Ну вроде известности. Чуждое мне состояние.
...Мне, видимо, не хватает и всегда не хватало борьбы. Цели, страсти жизни. Я оступался, но у меня никогда не было настоящих неудач. Жизнь не испытывала меня, вот в чём дело. Как-то я слышал по радио интервью одного знаменитого британского писателя и политика, а по натуре солдата и борца. Он тогда сказал, что сожалеет лишь об одном — что не удалось погибнуть на войне. Меня поразила эта мысль — в нём говорило чувство генеральной, экзистенциальной бессмысленности существования. Ему не хватало этого вот «умереть за» — как наслаждаться плодами победы, за которую другие умерли? Чего стоит наша теперешняя свобода? В чём выражается моя свобода, свобода людей моего поколения? В свободе получить равиоли в три ночи?
Что вам помогает выйти из подобных состояний?
Бокс помогает. Дети. И Хаус. Я недавно начал боксировать. Почти никогда с грушей. С партнёром. Это больно, но ты становишься сгустком, комком силы, который не чувствует боли. Я боксирую каждое утро. По-настоящему — когда могу себе позволить получить фингал или рассечённую бровь. Чаще — в режиме тренировки. Из-за съёмок в «Хаусе» в настоящем боксе приходится делать перерывы. Но Хаус тоже помогает. На него не воздействует социальность, он не прикован к ней, он способен парить над всеми этими канонами хорошего поведения, политкорректности, поверхностного такта. Он — отрицание социальной гравитации. Я бы тоже так хотел. Но всего лишь езжу на мотоцикле. Это тоже полёт. Суррогат полёта, конечно. Но похоже. У меня же дети. Я их люблю, они — главное в моей жизни. Так что не задавайте мне тупиковый, но традиционный вопрос «Что вас роднит с Хаусом?». Что-то, возможно, и роднило бы, если бы мне некого было любить. Но мне есть кого. А это, между прочим, похоже на счастье. Но кто сказал, что смысл нашего существования в достижении счастья? Сомневаюсь.
Но разве такого рода сомнения не роднят вас с вашим героем?
Мне нравится в нём совсем другое. В «Звёздном пути» есть такой эпизод. Капитан Крик смотрит в открытый космос через люк и говорит: «Где-то там сейчас кто-то говорит три самых красивых слова, которые есть в любом языке». Ты думаешь, он имеет в виду «Я люблю тебя». Но тут капитан уточняет: «Помогите мне, пожалуйста». Под тремя самыми красивыми словами он имел в виду просьбу о помощи. И прав — в ней заключается абсолютная красота, ведь за ней — естественный благородный контакт человеческих существ. Вот это мне и нравится в «Хаусе» — там повсюду просьба о помощи, они исходят от всех героев, а от Хауса, может быть, в большей степени.
Не в этом ли ваша версия счастья?
Возможно. Но важно ещё и преодоление, счастье испытания. На 40-летие жена подарила мне прыжок с парашютом. То есть я ходил на тренировки, а потом должен был прыгнуть. Но в день Х, когда мы поднялись в воздух, выяснилось, что ветер слишком силён и таким олухам, как мы, любителям, прыгать нельзя. Мы вернулись на землю. Интересная деталь: женщины из нашей группы были расстроены, а все как один мужчины — и я не исключение — вздохнули с облегчением. Но так или иначе, все мы оказались там, чтобы испытать себя, чтобы преодолеть. Чтобы знать о себе, смогу ли я действительно прыгнуть в никуда, когда на высоте этот парень-инструктор откроет дверь и скажет: «Давай!» Получается, что я так и не смог: тогда прыжок отменился, потом отложился, а потом уж было и вовсе не до того. И получается, я боюсь падений. Возможно, из тщеславия. А может, из дефицита витальной энергии. Но всё это вкупе делает меня тщеславным пессимистом.
В идее преодоления как смысла существования звучит что-то очень британское — завоевательное, колониалистское. К тому же, вы сыграли Берти Вустера и прочих английских аристократов. Так до какой степени вы англичанин, со всем этим национальным комплектом: иронией, снобизмом, тщательно скрываемым «золотым сердцем», страстью к покорению новых пространств, желанием побеждать, напористостью, благовоспитанностью?
То есть до какой степени мне свойственно англичанство? Знаете, мне в чём-то симпатичны британские футбольные болельщики. Как известно, самые злостные из всех. Потому что они опровергают этот ваш миф об англичанине, колонизаторе в пробковом шлеме. Я не верю в национальный характер в современном мире. Я верю только в акцент. Для того чтобы стать стопроцентным американцем Хаусом — со всем его опытом исторических и культурных разочарований (он всё-таки живет в эпоху политкорректности и пост-классовости) — мне надо было обмануть... язык.
Но вы получили подлинно британское воспитание: пресвитерианские аскетические ценности в семье, потом школа — престижный Итон, потом Кембридж...
А мне кажется, что важно другое. Я вырос в семье врача и спортсмена. Мой отец был невероятно деликатным, невероятно воспитанным человеком, врачом, исключительно преданным своим пациентам, подлинным атлетом — он ведь выиграл золотую медаль по парной гребле на Олимпийских играх в Лондоне в 48-м. И я хотел быть похожим на него и также занимался греблей, довольно серьёзно. Подруга моей юности Эмма Томпсон тут недавно сказала: «Слушай, я вспоминаю тебя тогдашним и не верю своим глазам — ты был огромен». Да, гребля — силовой вид спорта. Я был огромен. Отчасти поэтому меня и в Кембридж взяли — спортивная форма впечатлила. Но я хотел быть похожим на отца и одновременно отрицал его — и его тактичность, и его честность. Я был дурным подростком, этаким противным тинейджером... Но все мы обречены осознавать себя лишь ухудшенной версией своих отцов... И вот чем кончилось: притворяясь врачом Хаусом, я зарабатываю в десять раз больше, чем зарабатывал бы он, будь он жив. Журналисты спрашивают, не жалко ли мне, что отец умер ещё до «Хауса». Нет, не жалко — возможно, мне было бы стыдно за это притворство. Но мне жаль, что отца нет в живых. Я так и не смирился с его смертью, мне не хватает его — и этой его деликатности, и преданности. Незадолго до его смерти я уехал в США, сниматься в «Стюарте Литтле», кажется. Я знал, что он чувствует себя плохо, но решил не ездить к нему и не прощаться подробно. И сделал это вполне сознательно: я не хотел его отпускать, не хотел давать ему разрешения уйти. У него должно было «висеть» это дело — встретиться со мной. И я толком не попрощался. Сейчас жалею об этом. Но не исключено, что сделал бы то же самое, если бы ситуация повторилась.
А вообще вы считаете — стоит оставлять незавершённые дела? В жизни есть смысл в открытых финалах?
Жизнь сама оставляет финалы открытыми. Для меня явный пример — моя мать. Она страдала перепадами настроения, была женщиной со странностями — например, по-моему, первой в Европе начала реально воплощать в жизнь «зелёные» идеи: собирала макулатуру по соседям и сдавала... Она презирала идею, что жить надо ради счастья, что надо его непременно достичь. Она терпеть не могла само слово «комфорт». Она враждебно относилась к сантиментам, к проявлениям нежности, слёзы просто ненавидела. В качестве реакции на наши детские слёзы могла сказать: «Сырость не разводи!» У нас были странные отношения: мне казалось, что она слишком много от меня ждёт, видит во мне нечто, чему я никогда не смогу соответствовать. А я только и делал, что разбивал образ идеального себя: в школе врал, всерьёз учиться играть на фортепиано отказался. Стал актёром-самоучкой, а не врачом, как отец, — как она хотела... Наши отношения не были безоблачны, и мне казалось, в целом я её разочаровал. Но после её смерти брат рассказал, что я, оказывается, был материнским любимцем, что она гордилась моими сценическими опытами... Но её уже нет, мне некому сказать то, что теперь хочется. Финал так и остался открытым.
Переезд в США не сделал вас меньшим пессимистом? Ведь всё-таки принято считать, что Америка — страна оптимистов-жизнестроителей.
Послушайте, когда я закрываю за собой дверь у себя в Англии, я вхожу в свою крепость. В солидное каменное вместилище жизненных основ. А когда я хлопаю дверью в доме в Лос-Анджелесе, содрогаются стены! Здесь всё хлипко, всё временно, никто не думает о постоянстве. Здесь строят, но так, не зацикливаясь, чтобы было удобно сейчас. В целом, мне нравится этот американский принцип жизни — fast & easy. Нечего заявлять миру о себе как о чём-то непреходящем!
Но как, имея склонность к депрессии, вы столько лет играли в комедиях и сами писали сценарии комедий и скетчи, то есть смешили людей?
Да ведь я всего лишь депрессивный тип, а не мизантроп. Мне нравятся люди. И они знают об этом — никто обо мне не скажет дурного слова. Поэтому дурное я говорю о себе сам.
Заметки на полях одного интервью
В чём секрет популярности «Доктора Хауса»? Отчего жизнь порой кажется бессмысленной даже самым, казалось бы, состоявшимся личностям? В чём смысл боли и страдания? Обо всём этом размышляет архимандрит Иоасаф (Перетятько).
Уже больше ста лет мир кричит о толерантности, о любви всех ко всем, и всё больше эта любовь становится какой-то бесхребетной. А ведь даже в Евангелии любовь показана «с характером», с кулаками. Мир устал уже от этой сладкой любви ко всем и вся, от сахара либерализма и политкорректности. Вот тут и появляется Хаус, которому наплевать на приличия, на правила, на себя, даже на закон, если этим он спасёт человека.
Миру, в котором уже, кажется, ничто не называется своими именами, всё-таки хочется правды, как бы неприглядно она ни выглядела. Всем нам нужна такая правда, когда на наши попытки оправдания всех своих неудач хоть один человек скажет прямо: ты врёшь. Врёшь себе и врёшь мне. Врёшь, чтобы выглядеть белым и пушистым, чтобы ничего не менять в жизни. Хорошо в этом смысле людям церковным: существуют священники, которые докапываются до наших неправд. Но пока мы врём, ни священник, никто другой не поставит правильный духовный диагноз. Лишь когда человек перестанет лгать — себе, в первую очередь, — становится возможным духовное выздоровление.
Так и у Хауса. Пока люди лгут о себе, сложно поставить медицинский диагноз. Только правда, даже самая жестокая, помогает спасать человека. Хаус достаёт «скелеты из шкафа» — у своих пациентов и параллельно у зрителей, давая им пищу для размышлений. Кто из нас знает себя досконально? Если человек считает, что он вполне познал себя и теперь ему осталось только исправляться — этот человек и есть первый лжец. Процесс познания самого себя занимает всю жизнь, если мы отваживаемся его начать.
Классик сказал, что понять боль другого человека может только тот, кто сам по-настоящему испытал боль. Хаус как инвалид постоянно страдает от боли. Интересен такой момент: когда на некоторое время страдания оставили его, он очень сильно испугался, ведь боль позволяла ему настраиваться на одну волну с больными, которым он должен был ставить диагноз. Как это напоминает нашу жизнь! Мы стремимся уйти от боли, и нам кажется, что без неё мы станем счастливее — но это самообман. Господь, посылая нам скорби, таким образом нас самих настраивает на одну волну с теми, кто вокруг нас. Ведь только пройдя через боль жизни, мы сможем быть чуткими к страданиям других.
«Лёгкость бытия»... Человечество столетиями упрощает себе жизнь, чтобы больше времени освободить для чего-то главного, глубинного. Раньше семья занималась уборкой целый день, сейчас — полчаса. Но чем она занята остальное время?.. Мы упрощаем нашу жизнь, но времени больше не становится. И уж конечно, смысл бытия не становится от этого ближе.
В чём здесь причина? Избирая упрощение жизни, человечество идёт не по пути преодоления трудностей, а по пути их избегания. Это начинается с быта — и распространяется на всю нашу внутреннюю жизнь. Мы бежим от борьбы с лишними усилиями — и таким образом убегаем от борьбы с собой. Стоит ли удивляться, что умному человеку в такой жизни видится мало смысла?
Разумеется, это не значит, что нужно отказаться от достижений прогресса. Но если мы ищем смысла, должна произойти переоценка ценностей: чтобы прекратилась погоня за лёгкостью бытия, чтобы человек всего себя отдал на борьбу с собой, со своими бесконечными желаниями. Заметим: люди, пережившие кризисные ситуации — войну, голод, концлагеря, — вспоминают о них как о поворотных моментах своей жизни. Там была борьба за смысл жизни, за саму жизнь. И жизнь эта имела огромную цену!
Всё это чётко подметил Хью Лори. Человек, у которого есть всё, о чём можно мечтать, и даже больше, ищет, оказывается, смысл жизни в испытаниях. Как продукт западного мира он почувствовал этот нерв современности: в ситуации расцерковлённости и некой метафизической растерянности человек ощущает тяжесть лёгкости бытия. И здесь одни склоняются к цинизму и отвержению любых идеалов, другие погружаются в депрессию. Потому актёр совершенно прав в том, что человеку необходима борьба.
Когда я служил в Ираке в миротворческом контингенте, там, в обстановке смертельной опасности, никто не впадал в депрессию. Это, однако, не означает, что нам нужны искусственные трудности и беды. Сосредоточить бы свой потенциал преодоления на борьбе со страстями — и счастье и смысл жизни, возможно, окажутся не так далеко.
Журналист спрашивает Лори о таком качестве, как завоевательство, жажда побед... Очевидно, что именно этими свойствами человечество испокон веков подменяет Богом данную потребность во внутренней борьбе. Человек направляет свою жажду борьбы на карьеру — и не получает насыщения. Потому что обрести смысл можно только в битве с самим собой.
«Помоги мне, пожалуйста». Почему Лори выбрал эти три слова как самые красивые? Почему не слова любви? Говоря «я тебя люблю», человек подразумевают, что готов жертвовать собой. А когда человек просит о помощи, он тем самым взывает к жертвенности того, к кому обращается. Это и называет Лори естественным благородным человеческим контактом. Когда возникает контакт сердец, тогда и реализуется весь смысл человеческого бытия. Ведь мы созданы Богом для жертвенности. И жертвенность не вписывается в «лёгкость бытия», и именно просьба о помощи делает меня человеком, призывая преодолеть свои желания, послужить другому, отдать всего себя без остатка. Так мать не спит ночами у колыбели младенца. Никто не видит, не слышит, не обещает платы, но она несёт свой подвиг и не считает это чем-то особенным. В этом и заключается укрощение страстей.